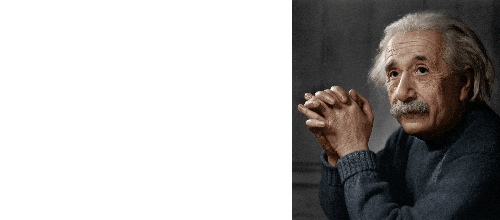Исследование взаимодействия ударных
ударных волн с пограничным слоем на поверхностях различных типов – классическая задача
газодинамики. Исследования в этой области ведутся на протяжении более 70 лет [1].
Однако до сих пор нерешенными остаются многие вопросы. При распространении
ударных волн в каналах формируются комплексные волновые картины, обусловленные
геометрическими особенностями каналов, а также локальными неидеальностями
поверхностей. К геометрическим особенностям можно отнести
переменное сечение каналов, наличие различных генераторов
ударных волн (клинья, ступени и др.), а также источники диссипации энергии,
реализуемые, например, через импульсные воздействия. Однако даже при
распространении ударных волн в каналах с постоянным сечением и в отсутствие
макроскопических возмущающих факторов, в потоке возникают возмущения,
обусловленные взаимодействием волн с локальными неидеальностями – шероховатостью стенок, зазорами на стыках секций и другими аналогичными
факторами.
В
таких условиях интенсивность падающей ударной волны снижается за счёт
диссипации части кинетической энергии основного потока газа в осевом
направлении, а также перераспределения энергии в поперечные волны – волны
сжатия [2]. Таким образом, помимо вязкостных потерь, связанных с развитием
пограничного слоя на стенках, происходит также волновая диссипация энергии.
Следовательно, ключевые вопросы, требующие особого внимания [3-5] – определение
положения и величины пиковых тепловых и динамических нагрузок, возникающих при
взаимодействии ударных волн с различными поверхностями, а также оценка влияния
возмущающих факторов на состояние потока сжимаемого газа. Согласно работам
[6-8], дальнейший прогресс в моделировании данного взаимодействия невозможен
без получения достоверных экспериментальных данных по распределению
газодинамических параметров в области падающих и взаимодействующих ударных
волн. В то же время за последние годы удалось достичь больших успехов в
предсказании с помощью
CFD-моделей
закономерностей теплообмена в ламинарном пограничном слое. Определенные
трудности возникают при моделировании отрыва турбулентного пограничного слоя и
расчете обтекания поверхностей сложной формы [9].
Использование при исследовании высокоскоростных потоков
панорамных (полевых) методов измерений, в отличие от традиционных
(термоанемометр, лазерная доплеровская анемометрия и др.), обладает рядом
преимуществ [10, 11]. Например, они позволяют измерять мгновенные распределения
физических величин, выявлять в потоке когерентные структуры, исследовать
нестационарные потоки и быстропротекающие процессы. Наиболее известным среди
панорамных методов является анемометрия по изображениям частиц
PIV (Particle Image Velocimetry). На практике
часто применяются панорамные инфракрасные (ИК) методы визуализации, позволяющие
проводить оценки тепловых потоков и трения на обтекаемых поверхностях,
а следовательно, определять зоны ламинарно-турбулентного
перехода, а также области отрыва и присоединения потока [12].
Метод PIV – это оптический метод измерения мгновенных полей
скорости газа в выбранном сечении потока [13, 14]. Импульсный лазер создает
тонкий световой нож и освещает мелкие частицы-трассеры, взвешенные в
исследуемом потоке. Положения частиц в момент двух последовательных вспышек
лазера регистрируются на два кадра цифровой камеры. Скорость потока
определяется расчетом перемещения, которое совершают частицы за время между
вспышками лазера. Определение перемещения основано на применении корреляционных
методов к трассерным картинам, с использованием
регулярного разбиения на элементарные области. Для повышения точности измерений
набирается статистика измерений из десятков и сотен таких кадров, в результате
получаются векторные поля скорости практически во всей области измерения. Для
автоматизации процесса обработки серии кадров используется кросс-корреляционный
метод, позволяющий оцифровать каждый кадр по яркости элементов (частицы-фон) и
в результате получить комбинацию всех возможных совпадений для всех частиц на
каждом втором кадре. При этом, шумовой пик, отвечающий за реальное перемещение
частиц, будет выше всех остальных пиков, отражающих другие возможные
перемещения частиц из первого кадра во второй.
Метод
PIV находит широкое применение при исследовании газодинамики сверхзвуковых потоков
[15-20]. Метод позволяет определять распределение 2-х или даже 3-х (в случае
стерео-PIV) компонент
вектора скорости потока. Использование метода в сверхзвуковых аэродинамических
установках связано с решением ряда проблем, включая правильный выбор трассеров,
место засева потока по тракту установки, улучшение равномерности засева, борьба
с паразитной засветкой лазером и ряд других.
Инфракрасная (ИК)
термография – это оптический метод регистрации инфракрасного излучения с поверхностей объектов,
способный преобразовывать регистрируемое излучение в панорамную температурную
карту [21]. В прикладных задачах газовой динамики и
тепломассообмена инфракрасная термография преимущественно применяется
для исследования тепловых потоков на обтекаемых поверхностях [22-24].
Целью данной работы является отработка использования
оптических панорамных методов PIV и ИК-термографии на задаче взаимодействия падающей
ударной волны с турбулентным пограничным слоем на пластине. В рамках работы
также проведено сравнение полученных изображений с традиционным теневым методом Теплера.
Исследования проводились на сверхзвуковой аэродинамической
установке периодического действия с закрытой рабочей частью и регулируемым
сверхзвуковым соплом (рис. 1) (Эксперимент 1) [25, 26], а также на импульсном
ударном стенде УТРО-3 (рис. 2) (Эксперимент 2) [27].
Эксперимент 1. Размеры рабочей
секции: длина – 200 мм, ширина – 70 мм, высота – 98 мм. Число Рейнольдса,
рассчитанное по длине нарастания динамического
пограничного слоя от критического сечения сопла, составляло не менее 2·107
на срезе сопла, что свидетельствует о турбулентном режиме течения. Толщина
пограничного слоя в начале рабочей секции на верхней и нижней стенках
составляла около 6 мм. Установка оснащена оптическими кварцевыми боковыми
окнами и прозрачными верхней и нижней стенкой из оргстекла, что позволяет
использовать панорамные методы визуализации.
В данном исследовании число Маха потока на срезе сопла
составляло M∞ = 2,74. Размеры критического сечения сопла в данном исследовании составили
70х29 мм. На верхней стенке рабочей части аэродинамической установки перед
пластиной устанавливался генератор ударной волны – стальной клин с углом
раскрытия 12° (рис. 1). Полное давление в форкамере
составило 532 кПа, полная температура – 295,4 К.
На первом этапе эксперимента боковой иллюминатор рабочей
части установки заменялся на иллюминатор из ZnSe – материала
прозрачного в инфракрасной области спектра. Это позволило зафиксировать температуру
нижней и боковых поверхностей рабочей секции с помощью ИК-камеры
InfraTEC IR8800. Кроме того, в данном эксперименте нижняя стенка рабочей части установки имела
возможность подогрева с обратной стороны. Степень черноты поверхности модели
составило 0.9 (стенка была предварительно зачернена). Коэффициент пропускания
инфракрасного иллюминатора из ZnSe равен 0.7.

Рис. 1. Схема сверхзвуковой аэродинамической установки периодического
действия
При использовании боковых иллюминаторов из оптического стекла и прозрачной верхней стенки из оргстекла можно проводить исследования методом PIV. Стенд оборудован двумерной двухкомпонентной системой анемометрии по изображениям частиц 2D2C-PIV. Система PIV включала в себя: генератора аэрозоля Scitek с жидкостью DEHS, систему освещения потока на основе двойного импульсного Nd:YAG лазера Beamtech с длиной волны 532 нм, цифровую ПЗС-камеру с кадровой частотой на полном разрешении до 15 Гц и синхронизирующий процессор Polis [28]. Лазерный луч с помощью объектива разворачивался в плоскость и позволял создавать лазерный нож по центральной линии модели вдоль распространения потока. Камера устанавливалась сбоку от рабочей части установки и через иллюминатор фиксировала положение трассеров в моменты подсветки лазером.
Эксперимент 2. Проводились
термографические исследования нестационарных тепловых потоков на боковых
(кварцевых) стенках однодиафрагменной ударной трубы
УТРО-3 (рис. 2). В данном исследовании число Маха плоской проходящей ударной
волны варьировалось в диапазоне M = 3,1–3,6.

Рис. 2. Схема ударной трубы УТРО-3 импульсного действия
В рабочей камере реализовалось
однородное спутное течение продолжительностью до
нескольких миллисекунд. Максимальное число Рейнольдса потока, оцененное по ширине канала ударной трубы, составляло
 .
Длина канала
распространения ударной волны – 290 см, внутреннее сечение канала – 48 ×
24 мм. Рабочим и толкающим газами являлись воздух и гелий, соответственно. На
расстоянии 200 см от места разрыва диафрагмы в канале расположена рабочая
секция, оснащенная кварцевыми окнами (170 мм × 16 мм × 24 мм),
прозрачными (полоса пропускания 0.2 ÷ 2.8 мкм) в инфракрасном диапазоне
для используемого тепловизора (рабочий диапазон 1.5
÷ 5.1 мкм). Это позволяет регистрировать интенсивность ИК-излучения от
нагретых поверхностей внутри камеры (в том числе внутренних поверхностей окон)
с помощью ИК-камеры.
.
Длина канала
распространения ударной волны – 290 см, внутреннее сечение канала – 48 ×
24 мм. Рабочим и толкающим газами являлись воздух и гелий, соответственно. На
расстоянии 200 см от места разрыва диафрагмы в канале расположена рабочая
секция, оснащенная кварцевыми окнами (170 мм × 16 мм × 24 мм),
прозрачными (полоса пропускания 0.2 ÷ 2.8 мкм) в инфракрасном диапазоне
для используемого тепловизора (рабочий диапазон 1.5
÷ 5.1 мкм). Это позволяет регистрировать интенсивность ИК-излучения от
нагретых поверхностей внутри камеры (в том числе внутренних поверхностей окон)
с помощью ИК-камеры.
Тепловизором Telops Fast M200 (частота съемки 1800 кадров/с, экспозиция 200 мкс)
регистрировались интегральные тепловые потоки с внутренних боковых поверхностей
кварцевых окон, соответствующие тепловым полям в нестационарном
газодинамическом течении. Взаимодействие потока и обтекаемых стенок выражается
распределением тепловых полей на нагретых стенках канала в соответствии с
эволюцией параметров приповерхностного течения [29]. Процесс теплообмена в
данном случае существенно нестационарный и, в зависимости от теплофизической
реализации, может протекать в обе стороны – от нагретого газа к стенкам и
наоборот. Результирующие визуализируемые распределения тепловых полей получены
при прохождении ударной волны в канале постоянного сечения и формирования за
ней системы косых скачков уплотнения, взаимодействующих с кварцевыми стенками
канала.
Эксперимент 1.
На рис. 3 представлена теневая визуализация, на которой
зафиксирована область взаимодействия падающей ударной волны с пограничным слоем
на пластине. На визуализации отчетливо видны падающая и отраженная ударная
волна, а также отрывная область. В области отрыва возникает еще одна ударная
волна присоединения из-за того, что отрыв
распространяется вперед относительно области падения ударной волны. На срезе
сопла наблюдаются характеристики – волны малой интенсивности.

Рис. 3. Теневая визуализация падающей ударной волны на плоскую
стенку за клином
На рис. 4 показан мгновенный снимок ПЗС-камеры системы PIV.
Данная визуализация по сути является теневым шлирен-изображением,
на котором зафиксирована область взаимодействия падающей ударной волны с
пограничным слоем. Подсветка осуществлялась лазерным ножом сверху, на нижней
стенке наблюдается частичное переотражение излучения.
Диапазон яркости изображения (необходимый для постобработки изображении
кросс-корреляционным алгоритмом PIV) отмечен справа в
легенде. При увеличении изображения можно заметить подсвеченные трассеры
практически по всему кадру.

Рис. 4. Мгновенный снимок ПЗС-камеры системы
PIV области взаимодействия падающей ударной волны с пограничным слоем на плоской стенке
На рис. 5 показан результат кросс-корреляционной
обработки серии полученных в эксперименте парных изображений. Методика PIV
позволяет получить распределение скорости в измерительной области, а также
визуализировать структуры. По визуализациям рис. 4 и 5 отчетливо видны падающая
и отраженная ударная волна, а также отрывная область. Число Рейнольдса,
рассчитанное по расстоянию от критического сечения до среза сопла, составляет
около 2∙107, что свидетельствует о турбулентном режиме
течения. По мере нарастания градиента давления на стенке профиль скорости
становится менее наполненным, толщина пограничного слоя возрастает, наблюдается
отрыв и зона обратных токов. Ниже по течению пограничный слой вновь
присоединяется к стенке. На рис. 5 также показаны вектора продольной
составляющей скорости потока, виден характерный поворот потока за падающей
ударной волной и выпрямление после отраженной волны.

Рис. 5. PIV-визуализация области взаимодействия падающей ударной
волны с пограничным слоем
На рис. 6 представлена термограмма области взаимодействия
падающей ударной волны с нижней стенкой канала. По аналогии с результатами,
полученными для числа Маха набегающего потока 2,48 [20, 25], можно отметить
немонотонное распределение температуры стенки в области взаимодействия с
локальными экстремумами по мере отрыва и присоединения пограничного слоя. Ниже
по течению за точкой присоединения наблюдается локальное увеличение температуры
стенки в центре канала и области пониженной температуры в углах канала,
связанных, по-видимому, с развитием вторичных течений [31].

Рис. 6. Термографическая визуализация области падения ударной волны
на нижнюю стенку
Эксперимент 2.
На боковых кварцевых стенках
ударной трубы получены термограммы, соответствующие распределению тепловых
полей в спутном потоке за прошедшей ударной волной.
Визуализируются серии структур с различной интенсивностью излучения, отражающих
газодинамические области течения (Рис. 7). Так, при взаимодействии ударной
волны со стыками секций канала ударной трубы происходит возмущение структуры
потока с формированием сетки плоских косых скачков уплотнения [2, 32].
Образованные косые скачки уплотнения за ударной волной отражаются от внутренних
стенок канала, формируя каскад многократно отраженных скачков уплотнения ниже
по течению. При течении квазиоднородного спутного потока (число Маха около1,2) в канале
сформированная система скачков незначительно сносится вместе с потоком, изменяя
наклон скачков относительно канала по мере замедления основного потока (после
400-500 мкс). За время экспозиции камеры (200 мкс) происходящий нестационарный теплообмен между
кварцевыми боковыми стенками и пограничными слоями газа интегрально
визуализируется на тепловой карте приповерхностного течения за ударной волной,
с выделением системы косых скачков уплотнения.

Рис. 7. Термографическая визуализация взаимодействия ударной волны
M = 3,6 с боковой
кварцевой стенкой рабочего канала ударной трубы. Термограммы представлены в
шкалеNUC (Non Uniformity Correction), пропорциональной интенсивности излучения из рассматриваемой области.
Сравнивая продольные (Рис. 7) и
поперечные (Рис. 6) тепловые картины на стенках плоских каналов, образованные взаимодействием
скачков уплотнения с пограничным слоем, можно определять изменение
теплофизических и динамическим нагрузок вдоль канала [33].

Рис. 8. Термографическая визуализация взаимодействия ударной волны
M = 3,1 с боковой кварцевой стенкой. Термограммы представлены в шкале NUC (Non Uniformity Correction),
пропорциональной интенсивности излучения из рассматриваемой области.
С изменением интенсивности падающей ударной волны
нелинейно изменяется и степень сжатия газа, с соответствующими плотностью и
температурой потока газа в областях сжатия и разрежения (Рис. 8). При
увеличении интенсивности падающей ударной волны данные процессы приводят к
интенсификации теплообмена газовой среды со стенкой канала – регистрируются
более интенсивные интегральные термограммы, изменяется наклон границ областей.
Синус угла огибающей линии обратно пропорционально связан c числом Маха падающей волны:

Таким образом, в случае изменения скорости падающей ударной
волны, стоит ожидать смещение экстремумов и изменение амплитуды нагрузок на
стенки канала. Оценённые интенсивности течений в канале по углу огибающей линии
системы косых скачков составили
 ,
для числа Маха падающей ударной волны
,
для числа Маха падающей ударной волны
 и
и
 ,
для числа Маха падающей ударной волны
,
для числа Маха падающей ударной волны
 .
.
Представлены результаты экспериментального исследования
взаимодействия ударной волны с пограничным слоем на плоской стенке, обтекаемой
сверхзвуковым потоком воздуха с числом Маха М∞ = 2,74
(эксперимент 1 на аэродинамической установке), а также
М∞ = 1,2–1,1 (эксперимент 2 на ударной трубе). Ударная волна инициировалась
клином–генератором с углом раствора 12 градусов, а также локальными
неидеальностями в канале. Измерялось распределение
статического давления на стенке через дренажные отверстия на поверхности
модели. Картина течения в области взаимодействия ударной волны с пограничным
слоем визуализирована с помощью методов теневой визуализации,
PIV и инфракрасной термографии. Скорость потока за падающей ударной волной в канале аэродинамической установки
уменьшалась с 630 м/с в набегающем потоке до 540 м/с за ударной волной. Длина
области отрыва пограничного слоя достигала 26 мм. Положение максимума
статического давления соответствовало области присоединения пограничного слоя
за отрывом.
Визуализированы на двух стендах зоны экстремумов тепловых и
динамических нагрузок на плоские стенки каналов (постоянного и импульсного
воздействия).
Работа выполняется при поддержке гранта Российского научного
фонда №23-19-00096.
1. Dolling D.S. Fifty years of shock-wave/boundary-layer interaction research: what next? // AIAA J. 2001. Vol. 39. № 8. Pp. 1517-1531.
2. Баженова Т.В., Гвоздева Л.Г., Лагутов Ю.П., Ляхов В.Н., Фаресов Ю.М., Фокеев В.П. Нестационарные взаимодействия ударных и детонационных волн в газах // М.: Наука. 1986.
3. Gaitonde D.V. Progress in shock wave/boundary layer interaction // Prog. Aerosp. Sci. 2015. № 72. Pp. 80-99.
4. Huang W., Wu H., Yang Y.-g., Yan L., Li S.-b. Recent advances in the shock wave/boundary layer interaction and its control in internal and external flows // Acta Astronautica. 2020. № 174. Pp. 103-122.
5. Леонтьев А.И., Лущик В.Г., Макарова М.С., Попович С.С. Коэффициент восстановления температуры в сжимаемом турбулентном пограничном слое // Теплофизика высоких температур. 2022. Т. 60. № 3. С. 455-480.
6. Knight D.D., Degrez G. Shock wave boundary layer interactions in high Mach number flows. A critical survey of current numerical prediction capabilities // Advisory Rept. 319, AGARD. 1998. № 2. Pp. 1-35.
7. Knight D.D., Yan H., Panaras A.G., Zheltovodov A.A. Advances in CFD prediction of shock wave turbulent boundary layer interactions // Prog. Aerosp. Sci. 2003. № 39.
Pp. 121-184.
8. Doerffer P., Hirsch C., Dussauge J.-P., Babinsky H., Barakos G.N. Bump at a Wall (George Barakos). Unsteady Effects of Shock Wave Induced Separation. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2011. Pp. 13-53.
9. Neumann R.D., Freeman D.C. Experimental measurement of aerodynamic heating about complex shapes at supersonic Mach numbers // J. Spacecr. Rockets. 2012. № 49.
Pp. 1080-1087.
10. Бильский А.В., Гобызов О.А., Маркович Д.М. История и тенденции развития метода анемометрии по изображениям частиц для аэродинамического эксперимента (обзор) // Теплофизика и аэромеханика. 2020. Т. 27. № 1. С. 1-24.
11. Знаменская И.А. Методы панорамной визуализации и цифрового анализа теплофизических полей. Обзор // Научная визуализация. 2023. Т. 13. № 3. С. 125-158.
12. Carlomagno G.M., Cardone G. Infrared thermography for convective heat transfer measurements // Exp. Fluids. 2010. N. 49. Pp. 1187–1218.
13. Бильский А.В., Гобызов О.А., Корнилов В.И., Маркович Д.М. Применение методов цифровой трассерной визуализации для диагностики турбулентного пограничного слоя // Теплофизика и аэромеханика. 2012. Т. 19. № 4. С. 401-413.
14. Raffel M., Willert C.E., Scarano F., Kahler C.J., Wereley S.T., Kompenhans J. Particle Image Velocimetry. A Practical Guide. 2018. 669 p.
15. Humble R.W., Scarano F., van Oudheusden B.W. Experimental study of an incident shock wave/turbulent boundary layer interaction using PIV // AIAA. 2006. № 2006-3361. Pp. 1-16.
16. Scarano F. Overview of PIV in supersonic flows. In A. Schroeder, C.E. Willert (Eds.). Particle Image Velocimetry, Topics in Applied Physics. 2008. Vol. 112. Pp. 445-463.
17. Гобызов О.А., Ложкин Ю.А., Ганиев Ю.Х., Красенков Г.И., Ларионов М.А., Надеждин А.Е., Филиппов П.С., Филиппов С.Е. Опыт применения метода PIV для исследования структуры течения в сверхзвуковых аэродинамических трубах // Оптические методы исследования потоков: Тез. докл. 12-й Межд. конф. М.: МЭИ, 2013. 13 c.
18. Ганиев Ю.Х., Гобызов О.А., Гусарова О.Д., Захаров Е.П. Особенности методологии экспериментальной бесконтактной диагностики неравномерного поля скорости в среднемасштабной сверхзвуковой аэродинамической трубе // Мат. III Отрасл. конф. КИМИЛА. Жуковский: ЦАГИ, 2018. С. 302-311.
19. Егоров К.С., Загайнов И.А., Попович С.С. Экспериментальная отработка панорамного метода исследования анемометрии по изображениям частиц на сверхзвуковой аэродинамической установке // Будущее машиностроения России. 2022: сб. докл. М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2023. С. 12-16.
20. Popovich S.S., Zditovets A.G., Kiselev N.A., Vinogradov U.A. Experimental study of aerodynamic heating in the region of an incident shock wave boundary layer interaction // Acta Astronautica. 2025. Vol. 229. Pp. 804-813.
21. Вавилов В.П. Инфракрасная термография и тепловой контроль // М.: Наука. 2013.
22. Nakamura H. Spatio-temporal measurement of convective heat transfer using infrared thermography. Heat Transfer - Theoretical Analysis // Experimental Investigations and Industrial Systems. InTech, 2011.
23. Cardone G., Zaccara M., Edelman J. A general procedure for infrared thermography heat transfer measurements in hypersonic wind tunnels // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2020. V 163.
24. Rataczak J., Running C., Juliano T. Verification of quantitative infrared ther mography heat-flux measurements // Exp. Therm. Fluid Sci. 2021. V. 121.
25. Козлов П.В., Попович С.С., Здитовец А.Г., Загайнов И.А. Экспериментальное исследование тепловых потоков в газодинамических установках непрерывного и кратковременного действия // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2024. Т. 25. № 6. С. 1-13.
26. Popovich S.S. Aerodynamic cooling of the wall in the trace of a supersonic flow behind a backward-facing ledge // Fluid Dynamics. 2022. Vol. 57. № 1. Pp. 57-64.
27. Долбня Д.И., Дорощенко И.А., Знаменская И.А., Муратов М.И. Новые подходы к визуализации и анализу течений в ударных трубах // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3. Физ. Астрон. 2025. № 3.
28. Ахметбеков Е.К., Бильский А.В., Маркович Д.М., Маслов А.А., Поливанов П.А., Цырюльников И.С., Ярославцев М.И. Применение лазерного измерительного комплекса «Полис» для измерений полей скоростей в сверхзвуковом потоке в аэродинамических трубах // Теплофизика и аэромеханика. 2009. Т. 16. № 3.
С. 343-352.
29. Знаменская И.А., Муратов М.И., Карнозова Е.А., Луцкий A.E. Визуализация тепловых потоков в высокоскоростном течении за ударной волной // Научная визуализация. 2023. T. 15. № 3. С. 92-100.
30. Zhang Y., Tan H.J., Tian F.C., Zhuang Y. Control of incident shock/boundary-layer interaction by a two-dimensional bump // AIAA J. 2014. V. 52. Pp. 767–776.
31. Van Dyke M. An album of fluid motion // Parabolic Pr. 1982.
32. Znamenskaya I.A., Muratov M.I., Dolbnya D.I. IR-thermography studies of high-speed gas-dynamic flows // International Journal of Thermal Sciences. 2025. V. 214.
Study of a Shock Wave Turbulent Boundary Layer Interaction by Means of Optical Methods
Authors: S.S. Popovich1,A, I.A. Znamenskaya2,B, M.I. Muratov3,B, I.A. Zagainov4,A
A Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
B Faculty of Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
1 ORCID: 0000-0001-8904-7283, pss@imec.msu.ru
2 ORCID: 0000-0001-6362-9496, znamen@phys.msu.ru
3 ORCID: 0000-0002-6545-5829, muratov583@gmail.com
4 ORCID: 0009-0008-3233-0043, iz1721@mail.ru
Abstract
The velocity and temperature fields of an incident shock wave boundary layer interaction region for a flat plate flow is investigated. The research was carried out on a supersonic wind tunnel of periodic action with a closed working part and an adjustable supersonic nozzle, and impulse shock tube with flow duration up to several milliseconds. The shock system was generated by a wedge mounted at a distance of 20 mm from the upper wall, and by local inhomogeneities of the channel. The thickness of the boundary layer at the beginning of the test section on the upper and lower walls was about 6 mm. Experimental channels are equipped with optical quartz side windows and transparent upper and lower plexiglass sections, which allows the use of panoramic visualization methods. The distribution of the longitudinal and transverse components of the flow velocity in the interaction region of the incident shock wave with a flat plate was determined using the PIV method. The flow pattern in the area of interaction of the incident shock wave with the wall was also visualized using infrared thermography and the IAB-451 shadow device.
Keywords: wind tunnel, shock tube, shadow method, shock wave, boundary layer, PIV, infrared thermography.
1. Dolling D.S. Fifty years of shock-wave/boundary-layer interaction research: what next? // AIAA J. 2001. Vol. 39. № 8. Pp. 1517-1531.
2. Bazhenova T.V., Gvozdeva L.G., Lagutov Yu.P., Lyakhov V.N., Faresov Yu.M., Fokeev V.P. Nonstationary Interactions of Shock and Detonation Waves in Gases // M: Nauka. 1986. [in Russian]
3. Gaitonde D.V. Progress in shock wave/boundary layer interaction // Prog. Aerosp. Sci. 2015. № 72. Pp. 80-99.
4. Huang W., Wu H., Yang Y.-g., Yan L., Li S.-b. Recent advances in the shock wave/boundary layer interaction and its control in internal and external flows // Acta Astronautica. 2020. № 174. Pp. 103-122.
5. Leontiev A.I., Lushchik V.G., Makarova M.S., Popovich S.S. Temperature Recovery Factor in a Compressible Turbulent Boundary Layer // High Temperature. 2022. Vol. 60. Pp. 409-431.
6. Knight D.D., Degrez G. Shock wave boundary layer interactions in high Mach number flows. A critical survey of current numerical prediction capabilities // Advisory Rept. 319, AGARD. 1998. № 2. Pp. 1-35.
7. Knight D.D., Yan H., Panaras A.G., Zheltovodov A.A. Advances in CFD prediction of shock wave turbulent boundary layer interactions // Prog. Aerosp. Sci. 2003. № 39. Pp. 121-184.
8. Doerffer P., Hirsch C., Dussauge J.-P., Babinsky H., Barakos G.N. Bump at a Wall (George Barakos). Unsteady Effects of Shock Wave Induced Separation. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2011. Pp. 13-53.
9. Neumann R.D., Freeman D.C. Experimental measurement of aerodynamic heating about complex shapes at supersonic Mach numbers // J. Spacecr. Rockets. 2012. № 49.
Pp. 1080-1087.
10. Bilsky A.V., Gobyzov O.A., Markovich D.M Evolution and recent trends of particle image velocimetry for an aerodynamic experiment (review) // Thermophysics and Aeromechanics. 2020. Vol. 27. №. 1. Pp. 1-24.
11. Znamenskaya I.A. Methods for Panoramic Visualization and Digital Analysis of Thermophysical Flow Fields // Scientific Visualization. 2021. V. 13. N. 3. Pp. 125-158.
12. Carlomagno G.M., Cardone G. Infrared thermography for convective heat transfer measurements // Exp. Fluids. 2010. N. 49. Pp. 1187–1218.
13. Bilsky A.V., Gobyzov O.A., Markovich D.M., Kornilov V.I. Application of Digital Tracer Visualization Methods for Turbulent Boundary Layer Diagnostics // Thermophysics and Aeromechanics. 2012. Vol. 19. № 4. Pp. 401-413.
14. Raffel M., Willert C.E., Scarano F., Kahler C.J., Wereley S.T., Kompenhans J. Particle Image Velocimetry. A Practical Guide. 2018.
15. Humble R.W., Scarano F., van Oudheusden B.W. Experimental study of an incident shock wave/turbulent boundary layer interaction using PIV // AIAA. 2006. № 2006-3361. Pp. 1-16.
16. Scarano F. Overview of PIV in supersonic flows. In A. Schroeder, C.E. Willert (Eds.). Particle Image Velocimetry, Topics in Applied Physics. 2008. Vol. 112. Pp. 445-463.
17. Gobyzov O.A., Lozhkin Yu. A., Ganiev Yu. H., Krasenkov G. I., Larionov M. A., Nadezhdin A.E., Filippov P.S., Filippov S.E. Application of PIV for flow investigation in supersonic wind tunnels // Proc. of the 12th Optical Methods of Flow Investigation International Conference. M: MPEI. 2013. [in Russian]
18. Ganiev Yu.Kh., Gobyzov O.A., Gusarova O.D., Zakharov E.P. Features of the Methodology for Experimental Non-Contact Diagnostics of Non-Uniform Velocity Fields in a Medium-Scale Supersonic Wind Tunnel // Proc. of the 3rd Industry Conference KIMILA. Zhukovsky: TsAGI, 2018. Pp. 302-311. [in Russian]
19. Egorov K.S., Zagaynov I.A., Popovich S.S. Experimental Development of a Panoramic Particle Image Velocimetry Method for Supersonic Wind Tunnel Studies // Proc. of the Future of Russian Mechanical Engineering. Moscow: BMSTU. 2023. Pp. 12-16. [in Russian]
20. Popovich S.S., Zditovets A.G., Kiselev N.A., Vinogradov U.A. Experimental study of aerodynamic heating in the region of an incident shock wave boundary layer interaction // Acta Astronautica. 2025. Vol. 229. Pp. 804-813.
21. Vavilov V.P. Infrared Thermography and Thermal Control. M: Nauka. 2013.
22. Nakamura H. Spatio-temporal measurement of convective heat transfer using infrared thermography. Heat Transfer - Theoretical Analysis // Experimental Investigations and Industrial Systems. InTech. 2011.
23. Cardone G., Zaccara M., Edelman J. A general procedure for infrared thermography heat transfer measurements in hypersonic wind tunnels // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2020. V 163.
24. Rataczak J., Running C., Juliano T. Verification of quantitative infrared ther mography heat-flux measurements // Exp. Therm. Fluid Sci. 2021. V. 121.
25. Kozlov P.V., Popovich S.S., Zditovets A.G., Zagainov I.A. Experimental research of heat fluxes in wind tunnels and shock tubes // Physical-Chemical Kinetics in Gas Dynamics. 2024. Vol.25.
26. Popovich S.S. Aerodynamic cooling of the wall in the trace of a supersonic flow behind a backward-facing ledge // Fluid Dynamics. 2022. Vol. 57. № 1. Pp. 57-64.
27. Dolbnia D.I., Doroshchenko I.A., Znamenskaya I.A., Muratov M.I. New Approaches to Visualization and Analysis of Flows in Shock Tubes // Moscow University Physics Bulletin. 2025. № 3.
28. Akhmetbekov Ye.K., Bilsky A.V., Markovich D.M., Maslov A.A., Polivanov P.A., Tsyryulnikov I.S., Yaroslavtsev M.I. Application of the "Polis" Laser Measurement System for Velocity Field Measurements in Supersonic Flow in Wind Tunnels // Thermophysics and Aeromechanics. 2009. Vol.16. № 3. Pp. 343-352.
29. Znamenskaya I.A., Muratov M.I., Karnozova E.A., Lutsky A.E. Heat Fluxes Visualization in High-Speed Flow behind the Shock Wave // Scientific Visualization. Vol. 15. № 3. Pp. 92-100.
30. Zhang Y., Tan H.J., Tian F.C., Zhuang Y. Control of incident shock/boundary-layer interaction by a two-dimensional bump // AIAA J. 2014. V. 52. Pp. 767–776.
31. Van Dyke M. An album of fluid motion // Parabolic Pr. 1982.
32. Znamenskaya I.A., Muratov M.I., Dolbnya D.I. IR-thermography studies of high-speed gas-dynamic flows // International Journal of Thermal Sciences. 2025. V. 214.